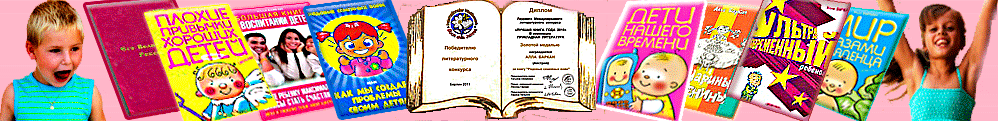АЛЛА БАРКАН. Из книги « ЭМИГРАЦИЯ ЭННОЙ ВОЛНЫ. ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ».
" ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ или « СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО ! »
ИЗ БЕСЕДЫ С ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ, ГРАФИНЕЙ МАРИЕЙ АНДРЕЕВНОЙ РАЗУМОВСКОЙ.
За жизнью этой удивительной женщины я долгое время наблюдала издалека, поражаясь ее неуемной энергии и работоспособности в отнюдь не самые плодотворные годы творчества, когда большинство из нас уже предпочитают просто почивать на лаврах, а главное – позитивным зарядом ее мыслей, и тактом, проскальзывающим, а вернее, бывшим постоянным спутником в её немногочисленных интервью в прессе, которые мне доводилось читать после моего переезда в Австрию.
Меня поражал естественный аристократизм ее духа в самом высоком смысле этого слова, а больше всего – аристократичность ее души, не позволяющая выпячивать на первый план те божественно-земные поступки благотворительности ее славного старинного рода не только в старые далекие времена, но и в нынешние, зачинателем которых нередко являлась она.
Меня поражал тот невидимый ореол, то сияние, невольно исходившее от ее образа даже после виртуального знакомства с ней, благодаря этим редким интервью или рассказам знающих ее людей.
Поэтому, когда наконец представился случай познакомиться с ней на одном из музыкально-поэтических вечеров в Вене, где она потрясла своих слушателей великолепным переводом на немецкий язык стихотворений Марины Цветаевой, пересилив себя, я все-таки решилась прервать свою трепетную дистанцию по отношению к ней, и она с присущей ей вежливостью согласилась на интервью, несмотря на бесконечную занятость в связи с успешной презентацией в России своей книги «Разумовские при царском дворе», уже пользующейся огромным успехом у немецкоязычного населения Европы. Эта удивительная женщина – писательница, переводчица, графиня Мария Андреевна Разумовская.
Х Х Х
Я шла на желанно-долгожданное интервью к графине Марии Андреевне Разумовской через уже начавший сбрасывать свои пурпурно- золоченные имперские наряды великолепный парк Бельведер, примеряющий белоснежное платье для помолвки-венчания, с кружащимися над опавшими листьями в вальсах Штрауса мотыльками снежинок наступающей зимы.
Я смотрела на листья, дрожащие на ветру, еще преданно-верные уже давно распрощавшимся с ними деревьям, и на танец-полет тут же тающих в небе снежинок, превращавшихся в слезы и плач, и думала об эфемерности нашего бытия – бесконечной помолвки друг с другом наших самых противоречивых желаний, поступков и мыслей.
Мы, наверное, те же снежинки, исполняющие свои бесконечные классические па-де-де…,па-де-труа…,прежде чем опуститься на землю с поднебесья, растаяв в полете. Наша жизнь такое ж кружение спуска, хоть вначале мы рвемся в полет снизу вверх, а потом уже только подобно снежинкам сверху вниз, сверху вниз… в многоритмии танцев от замедленных танго до «кружись и качайся» рок-н-ролла, чтоб все же упасть…навзничь или ничком, как придется…
Вариации этого ритма-кружения – эмиграция… снова начало начал, ретушь или же корректировка судьбы, вынужденная или желанная, продолжение нашего спуска или просто его завиток…Заводь, где вообще нету течения, или же лишь движение вспять…Когда хочется плыть по течению или же идти против него… А снежинки уже ослепляли глаза, летя шлейфом за мною к старинному венскому дому графов Разумовских, находящегося в свите великолепия Бельведера, и я верила в то, что услышу ответы мудрой женщины, знающей жизнь, на вопросы мои или предположения о превратностях людской судьбы.
Х Х Х
Я поднималась в кабинет Марии Андреевны по лестнице, увешанной бесконечными портретами всевозможных родственников и предков одного из самых знаменитых графских родов в России, а теперь и Австрии – рода графов Разумовских, и на меня таинственно смотрели великосветские дамы и блистательные мужчины со всевозможными поворотами и феерическими вспышками судьбы.
Причем феерического волшебства было намного больше, чем рокового стечения непредвиденных злополучных обстоятельств, а совершенно сказочное начало непрерывного взлета этой семьи неподвластно даже нашему воображению, потому что фантастика жизни, увы, беспредельна.
И любые сказки о Золушках блекнут при сравнении с реальными головокружениями судьбы никому неизвестной вначале простой и необразованной прачки из далекой Лифляндии Марты Скавронской, превратившейся вдруг в жену Петра1 и императрицу Екатерину1, а затем со страстной любовью их дочери цесаревны Елизаветы к молодому красавцу, новому певчему придворной капеллы, бывшему пастуху из бедной казачьей семьи Олеше Розуму, ставшему первым графом Разумовским, а по преданию и морганатическим супругом уже не просто дочери Петра 1 Елизаветы, а царствующей императрицы Елизаветы.
-Да, это, действительно, необыкновенная сказка наяву, - подтверждает мои эмоциональные высказывания гостеприимная хозяйка дома, доставая какую-то книгу из бесконечных книжных шкафов огромной библиотеки, заменяющей стены этого просторного кабинета. Алла Баркан -И сам духовный отец императрицы Федор Дубянский способствовал этому морганатическому браку после десяти лет фаворитства Алексея Разумовского: «Или выгони его и выйди замуж за подходящего, или выйди за него и это может быть тайной.
Но так просто с ним жить, как глава православной церкви, ты не можешь». К сожалению, эта тайна – тайна даже сейчас, но из свидетельств современников тех лет нетрудно догадаться, что сам Федор Дубянский освятил по христианскому обычаю этот морганатический брак, обвенчав молодую императрицу с бывшим украинским пастухом.
-Правда, сам граф Алексей Разумовский был слишком ленив до государственных дел и совсем не любил править, - уточняет немаловажные детали Мария Андреевна.
– Но его родной брат Кирилл Разумовский преуспел во многих делах…
- И графиня показывает мне свою недавно вышедшую на русском языке, но уже давно известную в немецкоязычной Европе книгу «Разумовские при царском дворе», презентация которой с большим успехом прошла в Москве, в овальном зале Российской библиотеки иностранной литературы при поддержке посольства Австрии.
-Да, я чувствую себя больше австрийкой, чем русской, - моментально угадывает мои мысли графиня, хотя прапрадед мой был Кирилл Разумовский… младший брат Алексея… И мы вновь погружаемся в сказку невероятного взлета маленького пастушонка Кирилла Розума, превзошедшую все целиком вместе взятые сказки „Тысячи и одной ночи."
-Да, все то, что когда-то произошло с Вашим прапрадедом – это сказка из сказок, - не могу удержаться я, чтоб не скрыть свое восхищение перед его Величеством Случаем в судьбах людей, потому что «ленивый» на государственном поприще граф Алексей Разумовский безвозмездно растрачивал свою жизненную энергию на благополучие своих близких, ну, а больше всего, для непрерывного восхождения к «Эверестам» успехов своего младшего брата Кирилла, отправив его учиться за границу в лучшие университеты Европы, дав инструкцию – изучать языки, научиться военному делу, фехтовать…, танцевать…, выправляя изъяны своего хуторского образования.
И Кирилл оправдал все надежды, а вернее – переоправдал, в восемнадцать лет став президентом Сантк-Петербургской Академии Наук, а в двадцать два года – малороссийским гетманом и генерал-фельдмаршалом, в то время как сам граф Алексей Разумовский довольствовался лишь званием обер-егермейстера.
По преданию, гетман сохранил свою пастушью одежду, в которой когда-то пас быков, и, читая мораль своим детям, нередко показывал ее им, несмотря на реальное осуществление своих самых экзотических снов. -У графа Кирилла Разумовского было одиннадцать детей, - посвящает меня в свою родословную графиня.
– Из них – шесть сыновей. Двое переселились в Австрию – Андрей и Григорий. При упоминании ею имени Андрея Разумовского всплывает в памяти не только то, что он был русским дипломатом, послом при Венском дворе во времена царствования Екатерины11, Павла1 и Александра1, что в честь него в Вене названа даже улица, на которой он построил дворец, а то, что он был одним из самых преданных меценатов еще никому неизвестного Бетховена и помогал расцвету его гения. Поэтому, и такие шедевры своего творчества, как пятая и шестая симфонии, великий композитор посвятил двум значимым для него людям: «его сиятельству графу Разумовскому и его светлости князю Лобковицу», не забывая своего русского покровителя, не говоря уже о его «русских» квартетах, специально написанных для графа.
-Да, да, да, брат моего прапрадеда очень много помогал Бетховену в начале его творческого пути, дав возможность ему играть, - рассказывает Мария Андреевна. И мы вспоминаем с ней о его первой жене Элизабет, дед которой, а особенно мать – страстная любительница музыки графиня Тун были меценатами Моцарта.
-Но наш род от Григория Разумовского,- продолжает свой увлекательный рассказ графиня. Алла Баркан -А Вы знаете, - пытаюсь поделиться с ней я, - что в России Вашего прапрадеда – Григория Кирилловича, называют иногда одним из первых диссидентов. -Его можно так называть, - не удивляется Мария Андреевна.
– Он, действительно, много мигрировал. Был ученым – геологом. Открыл даже в Силезии неизвестный тогда минерал, названный в честь него «разумовскин». Из России уехал в Швейцарию… Жил сначала в Лозанне… Только сейчас я начинаю понимать, что в своих «Письмах русского путешественника» Н.М.Карамзин, посетив этот город, написал о прапрадеде Марии Андреевны – известном российском ученом, отказавшемся от различных чинов, на которые его род Разумовских давал ему право, ради любви к науке, и теперь занимается ею, живя здесь…, в Швейцарии…
-А отец мой уже был прямым потомком Григория по линии его внука Камилло – одного из помещиков в Силезии, принадлежащей тогда Австрии. Так что я по своему происхождению австрийка.
-Мне известно, что Ваша мать Екатерина Николаевна Сайн- Витгенштейн была из знаменитого княжеского рода фельдмаршала Витгенштейна – одного из самых популярных полководцев Отечественной войны 1812года. -Да, фельдмаршал Витгенштейн был прадедом моей матери. -А какое отношение имеет к Вашей семье графиня Каролина Сайн-Витгенштейн, пожертвовавшая ради своей пылкой любви к Ференцу Листу буквально всем, вплоть до права возвращения на родину? - Как верная поклонница Листа не могу удержаться я от интересующих меня деталей.
Оказалось, что самое прямое. Каролина Сайн-Витгенштейн была первой женой деда матери. И если бы не ее знаменитый побег вместе с единственной дочерью от нелюбимого супруга к своему возлюбленному, то князь Николай Петрович Витгенштейн, ее бывший муж, вряд ли б женился вновь. -Муж Каролины – мой прадед, - пытается ввести меня в курс дела Мария Андреевна, - но когда первая жена его сбежала с Листом, он не мог с ней даже развестись, потому что во времена императора Николая1 это было строжайше запрещено. И как только на престоле оказался наследник, мой прадед быстро, быстро женился.
И его сын – отец моей матери. Дед княгини Марии Андреевны Разумовской получил прекрасное образование и воспитание в Пажеском корпусе, но от блестящей карьеры при дворе отказался. А, окончив Сельскохозяйственную академию, уехал в свои южнорусские имения и применил полученные знания на практике.
Одна из дочерей его – княжна Екатерина Николаевна Сайн-Вингенштейн – мать графини Марии Андреевны Разумовской. Вот именно с этого момента мы начинаем беседовать с графиней на самые важные темы главной цели моей встречи с ней: об особенностях русской эмиграции, об эмиграции так называемой «первой волны» или же «белой эмиграции», одной из жертв которой оказалась ее мать; об эмиграции, происходящей на глазах самой Марии Андреевны, эмиграции «третьей волны», когда семья австрийских графов Разумовских, а больше всего, конечно, мать графини, да и сама Мария Андреевна пытались всеми силами вывести из шока потрясенных своим отъездом из СССР, а вернее, высылкой, изгнанием…людей, среди которых, в основном, был цвет интеллигенции Советского Союза, причисленный к диссидентам…
Для них Вена стала перевалочным пунктом. И, конечно же, о сегодняшнем дне, о сегодняшней эмиграции – эмиграции «четвертой волны», называемой в кулуарах с легкой подачи одного из «комментаторов» ее – «колбасной». Надо сказать, что заранее четко распланированное мною интервью с графиней изменило свое русло, потому что буквально ненасытный интеллект этой удивительной женщины, несмотря на ее уже пенсионный возраст, потрясал своей любознательностью, пытаясь обогатиться все новыми и новыми знаниями о деталях и неизвестных доселе еще его обладательнице подробностях жизни из страниц истории СССР, невольной свидетельницей которых вдруг оказалась я, проживая до переезда сюда в исторических для становления советской власти местах – неподалеку от бывшего Карлага.
Мы сидели в ее просторном, несмотря на «оккупацию» книгами « всех времен и народов», повидавшем многих и многое на своем веку, кабинете и, забыв совершенно о времени, говорили о различных аспектах нашей жизни – ее и моей, так что со стороны можно было подумать, что мы были знакомы и раньше, и теперь после долгой разлуки удалось вдруг нам встретиться вновь.
А за окном продолжали таять снежинки, прерывая полет, и осыпались последние листья, уступая насиженные места на деревьях еще не родившемуся будущему, весеннему поколению почек, продолжившему их «родословную», несмотря на эту вынужденную осеннюю эмиграцию с «родных» ветвей…сверху вниз.
Деликатность, порядочность и благожелательность, очевидно, уже занесенные в красную книгу отношений между людьми, но еще свойственные Марии Андреевне, как «последней из Могикан», превратили почти ординарное интервью с ней в удивительно- задушевную беседу, а дистанцию между нами - в теплоту человеческого общения, в теплоту, которой так не хватает любому из нас даже в самых благоприятных условиях «колбасной» эмиграции.
Нет, это вовсе не была лишь внешняя изысканность и искусственный стереотип поведения навязанных шаблонов и установок «придворного этикета».
Нет, это было нечто иное, как я уже говорила выше – аристократизм души, ее величие и сияние, обладающие неразгаданной магией – возвеличивать и возвышать все вокруг, окрылять уже ставших бескрылыми. Этот дар – Божий Дар, и он дан лишь немногим - избранным для него.
В числе их, видимо, и графиня Мария Андреевна Разумовская, одна из будущих пятерых детей утонченной княжеской дочери Екатерины Николаевны Сайн-Витгенштейн, род которой давно был известен в России, неожиданно потерявшей вдруг родину и сполна нахлебавшейся горя в эмиграции первой волны. Алла Баркан Эмиграция первой волны или же белая эмиграция…Сколько судеб она искалечила, для скольких людей стала как молох – невозможно представить еще до сих пор. Но в ней было - «горящее сердце Данко» в виде веры с надеждой, что скоро, не сегодня, так завтра, вернешься домой и родные пенаты вновь станут твоими, не истлев в пепелищах ненавистного строя, потерпевшего свое крушение.
Эта вера с надеждой превращала эмигрантов в фанатиков веры, а все страны, где осела белая эмиграция, в переполненный пестрой толпой большой зал ожидания фантастически-странного призрачного вокзала, мимо которого почему-то долгое время совершенно не проходили поезда. И в ожидании своего поезда, не желая ассимилироваться с народами других стран, полурастоптанные судьбой люди объединялись во всевозможные русские колонии, создав свой материк – «Русское Зарубежье» со своеобразным горным хребтом из множества великих вершин – в виде И.Бунина, В.Ходасевича, З.Гиппиус, Д.Мережковского, А.Глазунова, С.Рахманинова, С.Дягилева, Ф.Шаляпина…
Вряд ли всех их возможно вообще перечесть. До сих пор из них многим нет равных. Ну, хотя бы Марине Цветаевой… -Да! Она, в самом деле, меня покорила, а вернее сказать – потрясла, хотя я познакомилась с ней в зрелом возрасте, прочитав ее книгу стихов, - оживляется Мария Андреевна. Но я знаю уже, что графиня не только открыла явление Марины Цветаевой для себя, но и познакомила с ним своих соотечественников, переведя многие стихотворения поэтессы на немецкий язык, написав даже книгу: «Марина Цветаева. Миф и действительность», помимо книги своих переводов стихов ее 1909-1941 годов.
Да, действительная реальность жизни Цветаевой и во «внешней» эмиграции за рубежом и во «внутренней» после возвращения на родину – это драма, переросшая в трагедию, безжалостно загнанного в капкан изувеченного и измученного чувства собственного достоинства человека с необыкновенно развитым этим чувством, человека, которым должно было бы гордиться все человечество. «…Не знаю, за кого держаться», - писала, отчаявшись, поэтесса в одном из своих дневников, вернувшись, наконец, в Россию, к себе на родину, в свою последнюю…"внутреннюю эмиграцию".
«…Не знаю, за кого держаться» – скорее всего, эта фраза могла бы служить девизом отчаяния для большинства эмигрантов первой волны. И, конечно же, и для матери Марии Андреевны, написавшей 21ноября 1918года в дневнике: «…У нас теперь нет такого места, которое мы бы могли назвать нашим домом!».
И графиня показывает мне этот дневник, изданный в виде книги «Кн. Е.Н. Сайн-Витгенштейн. Дневник1914-1918» во Всероссийской мемуарной библиотеке в 1986 году и рассказывает историю этого дневника, подготовленного к печати именно ей. Дневники ее мать, как и многие другие в те времена, писала только лишь для себя, « чтобы вспоминать в старости» забытые дни.
Дневник был ее добрым другом, с которым можно было быть откровенной, доверяя ему буквально все, и невидимым соучастником многих событий, поэтому и захватила его с собой во время бегства из дома юная княжна Екатерина Николаевна в числе самых необходимых для жизни вещей, во время бегства из дома на «несколько дней», навряд ли подозревая, что это бегство окажется навсегда. -Да, когда их семья бежала, - вспоминает Мария Андреевна, - у каждого были маленькие чемоданчики и она унесла свои дневники.
Эти дневники очень долго лежали забытыми в ящиках. Но когда А.И. Солженицин приехал на Запад, не скрывая свой интерес к воспоминаниям старых эмигрантов, считая, что это достаточно важно, мама вспомнила тут же о своих дневниках и ему написала, послав из них несколько страниц. Прочитав их, А.И. Солженицин предложил ей – «дайте мне этот дневник!» А я сказала ей, что мы все сможем сделать сами. Алла Баркан.
Но моя мать была убеждена, что это никому не будет интересно. Я ответила – вот увидишь, это будет другим интересно. Но дневники были написаны карандашом и мне трудно было их прочитать. Я сказала об этом ей. Она ответила, что сумеет прочесть, но не сможет записать, что прочла.
Она тогда была уже очень больная и старая. Но прочла весь дневник свой на магнитофон. А потом это все мне пришлось переписывать и самой также переводить на немецкий. Так что первое издание дневников моей матери появилось не на русском, а на немецком языке и только спустя годы – на русском. Я с трепетом беру в руки темно-зеленую книгу издательства «УМСА-PRESS», подготовленную к печати Марией Разумовской и вышедшей в свет еще в 1986 году, посвященную всем внукам княгини и их русским сверстникам, и невольно заглядываю в эпилог, написанный княгиней Екатериной Николаевной Сайт-Витгенштейн спустя более полувека после описанных ею в своих дневниках событий…
И первое, что бросается мне в глаза, – это слова благодарности людям, их отзывчивости и доброте, благодаря которым ее семье, несмотря на самые тяжкие испытания, удалось все-таки выжить в те нелегкие годы после перехода моста через Днестр, между Могилевом-Подольским и поселком Атаки в Бессарабии, чтоб спастись от преследований, обрушившихся на них.
«Помню также несколько тяжелых болезней…, - вспоминает автор дневников. – Должна прибавить, что все врачи, которых иногда необходимо было посещать, никогда не соглашались брать платы, узнав нашу фамилию, усердно старались помочь «so einer hohen Familie». Теперь, в 1982году это звучит, как сказка.
Были тогда времена другие или люди? Тогда все старались помочь «бедным беженцам» и наши протесты не помогали…» Насколько все-таки мы недооцениваем роль эмоций и чувств в жизни людей, считая, что первую скрипку обязан играть наш рассудок – расчетливый, как калькулятор, холодный, как лед, но зато – здравый смысл! Пусть здравый – не спорю, но в нас ностальгия по цвету и запаху чувств и эмоций, оставшихся в прошлом, в его закулисье.
И наши порывы сегодня – оттуда, как дань этим чувствам и этим эмоциям, когда-то собой осветившим нам жизнь, - невольно подумала я, осмысливая эти строки. Уже совершенно больная, старая женщина, мать пятерых детей и бабушка десятерых внуков, пережившая как взлеты, так и падения в своей совершенно неординарной жизни, обретя, наконец, все желаемое, вспоминала на чужбине не про потерянные почести и богатства, не про утраченный за мгновения свой социальный статус, а про добрых людей, бескорыстно помогавших ей выжить.
И она вернула это добро сторицею другим людям, нуждавшимся в нем, при первой же подвернувшейся ей возможности, когда Вену, где она была уже женой графа Андрея Разумовского, наводнила русская эмиграция третьей волны, в пестрой смеси которой выделялись знаменитые диссиденты, представляющие, в основном цвет советской интеллигенции. И для многих из них Вена стала не просто перевалочным пунктом или местом проезда в страну эмиграции, а и также возможностью незабываемого общение с семьей графа Андрея Разумовского – своеобразной отдушиной напряжения.
- Да, да, да, - вспоминает Мария Андреевна, - все советские люди, приходившие к нам и ко мне на работу в Национальную библиотеку, были в шоке от происходящего с ними. -Кто особенно? -Помнится Бродский. Для него это было трагедией. Правда в Вене он пробыл недолго.
В шоке был также Копелев и, конечно, Эткинд… Я, боясь пропустить, хотя б слово из рассказа Марии Андреевны, и сама была в стрессе и в шоке, вспоминая с ней мысленно тех невинных, почти беззащитных, но отторгнутых родиной, как неприжившийся трансплантант организмом, людей.
Да, о Бродском все знают. А вот об Эткинде, очень милом Ефиме Григорьевиче, как сейчас мне сказала графиня, до сих пор мало кто в нынешнем поколении, хотя он был не только профессором, знаменитым филологом, но…и…правозащитником…И собою пытался прикрыть тех, других, кто нуждался в его благородстве, как в Алла Баркан насесте, но лишь для себя. А он, это не ведая, рвался в рукопашный бой ради их всех, не заботясь о ранах, которые нанести ему могут в ответ. Нанесли! Просто взяли и выгнали, выгнали из России, из отчего дома, выбросив, как ненужную ветошь оттуда, без зазрения совести, выбросив…навсегда. А он эту страну защищал на войне, жертвуя своей жизнью, спасая ее, как пытался спасти тех, кого защищал. Даже Бродского он защищал на суде, объявив настоящим поэтом, вопреки мнению власть имущим…
Те… считали его тунеядцем. Да, он знал, что идет вопреки, даже наперекор, плывя против течения, что за это наступит расплата, но, идя вопреки мнению власть имущим, он не мог пойти вопреки…Совести. Он хранил в своем доме рукопись Солженицина, прятал у себя вражеский «Архипелаг…», найденный вдруг при обыске в его квартире. Этот обыск устроили власти ему, мстя за Бродского, за «вопреки». Отступать было некуда…, хотя б если все те, кого он защищал, кому он помогал, кого выпестовал или же выпестовывал…заступились тогда б за него, может быть, и случилось бы чудо.
Но…почти все предали его. Не любому дано - «вопреки». Это был самый страшный удар, удар в спину, удар из ударов. Только брат, младший брат не отрекся от старшего, получив разрыв сердца на публичном судилище на Ученом совете своего института, где ему приказали – отречься! Не отрекся, а стал гладиатором самому же себе, превратив тот Ученый совет в зрелище римского Колизея, жаждующего крови, чтоб хоть так…отрезвились…
Да, он был его братом с благородством в крови. Оказалось, оно наказуемо. И Лев Копелев тоже был правозащитником. Персонаж Солженицина «В круге первом» Лев Рубин – это он, правда, в блеклом варианте. Копелев был писателем и к тому же очень крупным филологом-германистом.
Выехав в ФРГ к другу Генриху Беллю на один год – Алла Баркан продолжить там свою работу, он лишился мгновенно гражданства и пробыл в эмиграции всю свою жизнь, ставшую сразу смесью «отчаянья и надежды», надежды с отчаянием. Продолжая творить в эмиграции и издав там ряд книг, он издал, наконец, и последний вариант своей книги о докторе Гаазе – тоже правозащитнике, только царских времен – «святой доктор Федор Петрович».
Доктор Гааз тоже был эмигрантом, но не вынужденно, как Лев Копелев, а по собственному желанию. Выходец из Германии, он посвятил свою жизнь России, став святым для ущербных и для обездоленных, обделенных судьбой и наказанных ею, видя даже в преступнике, прежде всего, не злодея, а лишь человека.
Человека, который нуждается в человеческом сострадании. А он был переполнен им также, как река водой при наводнении, и делился, делился со всеми, раздавая все щедрой рукой. Величайший пример альтруизма - что имел, все раздал, став сам нищим. Но меня поражал всегда его девиз, эта магия нескольких слов с кружевом установки. Но какой! Но какой! Проще трудно найти, благороднее – тоже: «спешите…», «Спешите делать Добро!»
Доктор Гааз тоже связан с семьей Разумовских. Вылечив у княгини Репниной – племянницы русского посла в Вене графа Андрея Разумовского, тяжелую болезнь глаз, перед которой были бессильны лучшие специалисты, во время ее пребывания в гостях у дяди, молодой врач, учившийся в Венском университете, получил от нее приглашение переехать в Россию, став лейб-медиком ее семьи. И, хотя контракт был заключен лишь на четыре года, католик Фридрих Гааз, превратившись в Федора Гааза, остался на новой родине навсегда, жертвенно служа православным, соорудив своеобразный мост между католицизмом и православием. «Спешите делать Добро! « Спешите!»
И Лев Копелев тоже спешил, как и многие правозащитники, поплатившись за это своим отлучением, отлучением от своей родины. - Саша Глейзер, - продолжает перечислять мне знакомые имена известных советских диссидентов, общавшихся в Вене с ее семьей, графиня, людей, безжалостно выброшенных за борт СССР без спасательных кругов и превращенных за мгновения в щепки на волнах, но все-таки приплывших к берегу.
– Вы помните эту знаменитую выставку неофициальных художников начала семидесятых годов под открытым небом, на окраине Москвы, когда на картины наехали…- вспоминая, задумывается графиня, ища нужное слово, - танки… и уничтожили их. Так вот, Саша Глейзер приехал сюда с разными картинами и моя сестра Ольга, которая тогда работала в Москве, помогла устроить ему в Вене в «Кунстерхаузе» первую выставку неофициальных диссидентских художников.
Я сразу даже не поняла, что речь идет о злополучной «бульдозерной» выставке, тридцатилетие которой отмечали совсем недавно. Тогда, в те далекие семидесятые, произошло и в самом деле что-то невероятное. Молодым художникам - нонкорформистам официально было разрешено устроить вернисаж своих картин под открытым небом на окраине Москвы в Беляево. Непонятно почему, на этом пустыре в момент открытия объявленного вернисажа помимо зрителей с художниками оказалось много посторонних «садоводов», разбивающих там парк.
Когда все собрались, «садоводы» - молодчики из органов, направили на толпу людей свои бульдозеры и стали обливать всех мощными струями воды из поливальных машин, устроив одновременно костер, безжалостно уничтожая картины и избивая зрителей и художников вместе с журналистами, среди которых оказались и журналисты из западных стран. Это был акт жестокого вандализма, четко запланированный акт насилия над творческой личностью, вероломная вакханалия силы над беззащитностью. Саша Глейзер был одним из организаторов этой выставки и одним из подписавших письмо: «Обращение к советскому правительству…». Это и предопределило его судьбу диссидента.
- Когда на картины наехали…танки… наехали танки, - отзываются эхом слова графини, - наехали танки… А ведь те бульдозеры действительно были танками в той ситуации, -невольно осознаю я, пытаясь представить, что все-таки произошло. Как точно, как образно сказано про эти «бульдозеры-танки».
И эти «бульдозеры-танки», вернее подобие их - одна из причин катаклизмов в нелегкой судьбе человека, особенно, если живешь в эмиграции без тыла за гордой спиной, дорожившей осанкой…Они даже в нашем общении, в желаниях не возвеличить того, кто с тобой, а принизить, втоптать гусеницами в грязь , чтоб так растоптать чью-то душу. Но…раньше, чем танки, мы видим… «садовников», не зная, кто спрятан под этой личиной…
И, к счастью, они не все оборотни. Среди них немало достойных, готовых «ростки» поливать день и ночь, собой защищая от ветра, чтоб только они не засохли и выросли, чтоб дали желаемый плод. И это они помогли в эмиграции всем тем диссидентам, попавшим за борт, кого вспоминала графиня. Как только Ефим Эткинд оказался за пределами родины, его сразу же пригласили работать четырнадцать крупных университетов.
Он выбрал Парижский, создав там всемирно известную группу Ефима Эткинда, переведшую на французский язык А.С. Пушкина. О Льве Копелеве позаботился его друг Генрих Белль, предоставив ему возможность для работы и творчества. В честь советского диссидента немецкой общественной организацией "«Форум Копелева" была утверждена премия имени Льва Копелева за мир и права человека.
А Александр Глейзер стал директором Музея Современного Русского Искусства в Большом Нью-Йорке и издателем нескольких журналов, один из которых так и называется «Третья волна». О нобелевском лауреате поэте Иосифе Бродском знает весь мир, как и об упомянутом ранее Александре Солженицине. Воистину, « Блаженны изгнанные за правду» ( Мтф.5). -А что Ваша мать, сочувствуя диссидентам, говорила о них? Алла Баркан -Встреча с ними для нее была просто открытием, потому что все ее знакомые и родные рассуждали тогда точно так же, как редактор самого знаменитого русского «Нового журнала» в Нью-Йорке Роман Гуль в своей книге воспоминаний «Я унес Россию»,
– « Мы оставили Россию и России больше не существует. Там одни коммунисты. А от старой России ничего не осталось». Поэтому, когда она увидела этих людей, несмотря на то, что была уже довольно старая, она очень обрадовалась, познакомившись с ними, говоря нам: «Это настоящие нормальные русские люди. И какие они симпатичные!» Она, видимо, поняла, что Россия все-таки сохранилась, что там люди остались достойные. -Да, она поняла даже, как они мыслят и что это трагедия для них, ведь она же сама так и не возвратилась в Россию, хотя их семья бежала от погрома всего на два-три дня.
Да, семья княгини Екатерины Николаевны Сайн-Витгенштейн бежала от большевистского погрома, опасного для…жизни людей. Во времена диссидентов « погромы» устраивали не наяву, а в душе и именно в душе тех, у кого она была просветленной. И, конечно, возможность общения с семьей Марии Андреевны там, за бортом, была вроде бальзама для «конвульсий души» их, ведь здесь понимали и мотивы поступков и их состояние: когда все, чем ты так дорожишь и живешь, твой очаг, настоящее - реальная родина вдруг становятся в прошлом, и к тому ж виртуальными, что обратно пути уже нет, чтобы снова найти, что ты там потерял…Что смятение будет в душе постоянно…, даже если потом повезет.
-А сама Ваша мама после всего случившегося с ней в России, что она говорила своим детям о ней? -Она часто рассказывала нам про Россию. Она чувствовала себя чисто русской, хотя немецкого происхождения. Однако предки ее рода Сайн-Витгенштейн переехали в Россию за одно поколение до того, как потомки графа Кирилла Разумовского в Австрию. -Это она Вам привила любовь к русскому языку настолько, что он стал главным в Вашей профессии? Алла Баркан -Да, я около сорока лет проработала в русском отделе Национальной библиотеки в Вене, хотя знаю и другие европейские языки. Моя мать очень хотела, чтобы ее дети знали русский язык. Но мы не хотели.
Нам хотелось играть и гулять. Тем более, когда мы жили в Силезии, то мама боялась, что наш русский окажется смесью русского вместе с чешским. Но, тем не менее, к нам специально приезжали во время летних каникул студенты из Праги. В Праге был еще Русский университет и вообще в Чехии тогда очень много делали для русских. Особенно большой друг нашей семьи Виктор Михайлович Васнецов – внук известного русского художника Васнецова. Конечно же, русский язык – один из важнейших языков, хотя бы из-за величины страны.
Ведь сколько миллионов людей говорят по-русски. -Вы вначале жили в Силезии, а не в Вене? -Моей матери в эмиграции помогали австрийцы. Она даже устроилась гувернанткой в имении графини Marie Spiegelfeld. Там она познакомилась с братом графини помещиком графом Андреем Разумовским. И это знакомство перевернуло всю ее жизнь.
Да, мой отец был крупным землевладельцем, помещиком, - как бы оправдывается передо мной Мария Андреевна, очевидно, поняв из моих доинтервьютских откровений, что мне полностью трудно отречься еще от остатков советской идеологии, чтоб начать переваривать новую, современную, до конца. -Но сейчас это даже почетно в России, - тем не менее вырывается из меня. -После Первой Мировой войны, - продолжает графиня, - он потерял треть своего имения и мы оказались в чешской части Силезии на польской границе со своеобразным польско-чешским языком. А после 1945 года у отца забрали и оставшуюся часть имения. Правда, мы еще один год там держались, а потом насовсем переехали в Вену.
Венский дом построил наш дед, успевший побывать до Первой Мировой войны четыре раза в России. Он был богатым человеком и, имея имение в провинции, хотел жить и в столице. Это всех и спасло. Переезд для нас не был трагичным, как для Алла Баркан многих других. Была крыша над головой.
Мы и раньше, с тридцать пятого года, посещали здесь школу и вернулись, как будто домой. Вена вся пострадала от бомб и у нашей семьи была масса хороших намерений помочь снова отстроить ее. Я не знаю, читали Вы это? – и Мария Андреевна показывает мне две книги дневников их семьи за 1938-1941 и 1945-1946 годы.
Это мы – три сестры, - рассматриваю я фотографию трех очаровательных барышень. – Это братья – их двое. -Три сестры? Как у Чехова? -Да, да, да, наш отец постоянно смеялся, когда слышал от нас Вена, Вена…, говоря, три сестры – это Москва, Москва… -Ваша мама быстро адаптировалась к другой жизни? -Она долго еще находилась под шоком. Тосковала, уже приспособившись здесь. И считала всегда себя русской, хоть ее принимали за немку. А меня называли все русской, хоть считаю себя